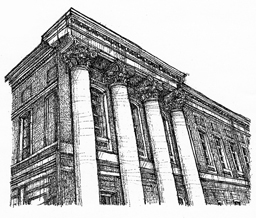
Злые люди
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР Всеволожский в воскресенье вызвал Благово запиской к себе на дом. Андрей Никитич занимал квартиру во втором этаже корпуса губернского правления. Говорили, что в 1799 году в ней останавливался Павел Первый. Шесть больших комнат окнами во двор вице-губернатору как холостяку показалось много, и он отдал две из них для размещения кремлевских служителей.
Выяснилось, что именно по их просьбе Всеволожский и побеспокоил начальника сыскной полиции в неприсутственный день. Андрей Никитич привел седого, но еще крепкого старичка, сорок лет трудившегося истопником в канцелярии губернатора, и сказал:
– Вот, дедушка, лучший в России сыщик после Путилина. Только Путилин в Петербурге, а Павел Афанасьевич здесь. Все ему и расскажи. Называй его «ваше высокоблагородие». Садись.
Истопник нерешительно присел на краешек стула, с надеждой посмотрел на коллежского советника.
– Так что, ваше высокоблагородие, сестра у меня живет в Сергачском уезде. Варварой кличут. А село называется Сосновка. Четыре на сто дворов; большое село…В трех верстах от них другое есть село – Вершинино…
– Это то самое, где люди пропадают?
Истопник оглянулся удивленно на Всеволожского, тот довольно кивнул:
– Видишь? Я же тебе говорил — ему все известно.
Тут только до вице-губернатора дошел смысл сказанного, и он опешил:
– Павел Афанасьевич! В нашей местности такое творится, и, судя по вашей реплике, не один год; вы это знаете и ничего не делаете? Как же так?
– Андрей Никитич, я же отвечаю за уголовный сыск исключительно в губернском городе! В уездах своя полиция, мне не подведомственная. А вам и Кутайсову – подчиненная. Несмотря на то, что формально меня эти дела не касаются, я трижды обращался к губернатору. Последний раз это было в прошлом, семьдесят восьмом, году. И к вам я тоже с этим подходил. Помните, в марте? И предлагал покончить с разбойничьими делами и выказывал готовность помочь в том местной полиции. Кутайсова не заинтересовали мои предложения. А вы что мне тогда ответили?
– Да… припоминаю… Там началась посевная, не хватало, как всегда, семян. Потом я заболел, потом открылась ярмарка… потом я забыл о вашем рапорте. Каюсь, грешен. Но сейчас обещаю вам полное содействие!
– Давайте дослушаем старика. Кажется, я догадываюсь о его истории.
И дед продолжил:
— Ага. Так вот, село это, Вершинино, взаправду очень нехорошее, и было такое всегда. Знающий человек, когда проходит его благополучно, бежит потом в наш сосновский храм и ставит там благодарственную свечку. Средь бела дня путника раздеть могут. И ладно бы только раздевали! Жизни лишают! Вечером же или в ночь чужому идтить через Вершинино не приведи Господь – верная погибель.
— Куда же смотрят становой и исправник?
— В селе том раньше стан помещался. Так двум становым избы спалили, квартиру-то в Мигино и перевели. Теперя там власти совсем никакой нет, одна разбойничья. И то сказать: как же бороться с целым селом?
— Сильно вас донимают?
— Спасу нет, ваше высокоблагородие. Парни их шибко драчливые, приходят на чужие праздники большими шайками, и завсегда с ножами да кистенями. На покосах вечно безобразничают. Запашку на наших землях делают, и слова им поперек не скажи! Бабам и девкам проходу не дают. В лес за грибами сосновские давно уже не ходят – боятся. Но самое страшное — это душегубство. Люди там пропадают, купцы, гуртовщики и просто прохожие. И об том моя история.
У сестры Варвары внучка, Тайка. Мне, стало быть, внучатая племянница… Подружилась она с одногодкой из Вершинина, на свою беду. Происходит та из семейства Ярмонкиных — есть там такая фамилия, почитай, треть села ее носит. Ну сошлись девки, не разлей вода: Тайка ходит к ней, она к Тайке…
– Сколько годов твоей Таисье?
– Тринадцатый пошел. Так вот. Варвара ее отговаривала: страшное село, не водись ты с ними… Но, кубыть, ничего плохого не происходило, и махнула она рукой: гуляй с кем хочешь. Ну и… Две недели назад как раз было Рождество Богородицы, наш сосновский храмовый праздник. И Анютка, Тайкина подружка, у нас заночевала. Праздник же – пироги, хороводы… На другую ночь Тайка осталась у Анютки. Легли они на печи, уснули… А посреди ночи просыпается моя Таисья от какой-то возни. Всмотрелась, эдак-то, в темноте, а они мужика душат!
– Кто? Ярмонкины?
– Да. Их там три брата: один не годится, другой хоть брось, третий маленько похуже обоих… Старший-то уж больно здоров, настоящий богатырь, но и остальные ничего себе. И ихний отец, Сысой Егорыч, он всеми такими делами и заправляет. Тот у двери стоял, караулил…
– Задушили?
– Как есть. С четверыми-то кто совладает?
– Если только Лыков, — сказал, как бы в сторону, Благово, и Всеволожский понимающе кивнул. – Дальше что было?
– Ну… Тайка моя молчит, ни жива ни мертва, крик кулаком зажимает. И, видать, шевельнулась там на печке… Младший сын, Анисим, самый поганый из них, и говорит:
– Дуроплясы! Забыли, что у нас чужой человек в доме? Девка, что Нюрка привела. Надо и ее сей же час удавить, чтобы свидетелев не было.
Тайка моя совсем от страху обмерла. Все, думает, вот и смерть пришла… Однако лежит, не двигается, будто спит. И отец Анисиму отвечает: погоди давить-то; люди видели, что она к нам пошла. Проверь вначале – може, дрыхнет; детский сон крепок. Ну Анисим влез на приступок и долго-долго смотрел и слушал, а внучка сопела, будто спала. И они поверили и не убили ее… А утром чуть свет, когда Ярмонкины задремали, Тайка тихохонько встала и бежать! А от Вершинина до Сосновки три версты. Вот бежит девка, нету еще никого, она и думает: а ну как хватятся? Догонят да задавят. Дайкось я спрячусь!
– Молодец!
– Еще не молодец – она себе жизню этим спасла! Только в стог забралась, смотрит: братья скачут за ней на лошадях! Двое. Ищут, а найти не могут. Аккурат мимо ее проехали, ругаются. Анисим второму-то говорит: жалко, тятя не дал ее ночью кончить, теперь она нас выдаст… Да… Просидела Тайка так часа два, люди вышли в поле работать, она и вылезла. Прибежала домой чуть живая со страху. Рассказала все бабушке с матерью, те в ужасти впали. Что делать? Мужика в доме нет – он в Москве, на заработках. Пошли к батюшке. Отец Матфей выслушал и говорит: по совести — надо бы властям сообщить, а по уму – не надо. Власти приедут и уедут, а вам тут жить. Три версты до Вершинина. В любую ночь явятся, двери подопрут да и спалят! Изба у наших, опять же, в Завернихе, – это конец, что к мельнице идет, там народу мало… Ну и побоялись, конешно. Варвара сказала своим: мы ничего не видели, не слышали, держим рот на замке. Дружба с Нюркой, понятное дело, прекратилась, никто ни к кому не ходит, тишина…
Вот. Прошла неделя. А в субботу приехал к ним старший Ярмонкин. Зашел в горницу, шапки не снял, на образа не перекрестился. Состроил звероподобную харю и говорит Варваре:
– Где твоя внучка? Тайкой кличут.
– На панинской стороне гуляет.
– Зови ее сюда!
– Это зачем?
– А разговор имею.
Вот. А Варвара моя шибко умная. Она тому Ярмонкину и говорит:
– Вы нас, Сысой Егорыч, не трогай. Мы люди тихие, осторожные; никогда ничего не болтаем излишнего, нету у нас такой привычки. Я за этим слежу строго. Оставь ты нас, а мы и что знали, все забыли.
Покойно так говорит, без невров. И Ярмонкин ушел. Сказал: «Ладно, но штоб могила», и все вроде бы как обошлось. Еще неделя минула, бабы мои уж и забывать стали. А позавчера подалась моя Варвара по воду, а мимо идет сосед пьяный, Васька Кауркин, лодырь и озорник. Из кабака идет. У нас в Сосновке только питейная лавка, а в Вершинине кабак… И говорит он сестре:
— А Тайку твою того… приговорили…
Варвара так ведра и бросила:
– Кто приговорил, за что? Бай, пьяный черт!
– А братья Ярмонкины сказывали давеча. Водку мы вместях потребляли… Оне и бают. Видала она, што ли, што не положено…Вобчем, конец ей таперь, братья сказали: зарежут!
Варвара как услыхала эти Васькины слова, спохватала дочь со внучкой и к батюшке. Даже избу не заперла. Переночевали они, а утром отец Матфей сам их на подводе в Сергач увез, спасибо ему за это и Божья благодарность. Из Сергача на дилижансе они вчера ко мне приехали и все это рассказали. А теперь дайте совет, ваше высокоблагородие, как им дальше жить?
– Дедушка, назовись-ка сперва.
– Лоллий Иванов Смыслов, ваше высокоблагородие.
– Так вот, Лоллий Иванович. Вопрос твой непростой. О том, что в Вершинине неладно, я знаю давно. Больше скажу: в нашей губернии таких еще три села. Сделать с ними что-то очень трудно, потому как там все заодно. Выселять бы надо такие общества в Сибирь, поголовно, до последнего человека. Но закона на это нет… Поэтому вычистить это поганое место насовсем, чтобы вам стало спокойнее, не получится. Но наказать и дать острастку – можно. Мы туда нагрянем. Пусть пока твои женщины у тебя поживут, неделю-другую. Когда им спокойно станет вернуться, я скажу.
Истопник долго молча смотрел на Благово, потом решился:
– Ваше высокоблагородие, а может, не надо? Лучше никак, чем так. Вы нагрянете, схватите кого-нибудь, пошумите, постращаете да и уедете. Никто ведь в Сосновке полицейский пост не оставит. А их там три на сто человек, они сами кого хошь застращают. И каково будет Варваре туда вернуться? Зарежут их всех. Выждут какое время и зарежут.
– Лоллий Иваныч, я это понимаю. Просто приехать и сказать: да я вас в порошок сотру! – это делу не поможет. Надо так сказать, чтобы до печенок проняло, чтобы не вы боялись, а они. Это трудно и может не получиться; но средства такие у нас есть. Вот, здесь его превосходительство господин вице-губернатор. Власть. Он даст мне команду; считай, уже дал (Всеволожский при этих словах энергично кивнул). И мы займемся этим змеюшником. Дело ведь не только в твоей Варваре; давно там пора подмести… Сколько можно людей убивать?
Смыслов поблагодарил и ушел. Видно было, что речь Благово его не убедила, и он сам теперь не рад, что затеял этот разговор. Как только дверь за ним закрылась, Всеволожский присел на освободившийся стул.
– Так как же это, Павел Афанасич?
– Вы насчет Вершинина?
– Да. Неужели у нас годами существуют места, где безнаказанно душат людей? И как мы, власть, это допустили?
– Эх, Андрей Никитич. Кутайсов здесь высшая власть. Вот и ответ на ваш вопрос. А места, о которых вы говорите, существуют не годами, а столетиями. И не только в России. Понимаете, есть злые люди. Дьяволово отродье, чертово семя. Иногда необъяснимым образом они оказываются поселенными в одном месте; как будто нечистый их там нарочно собрал. В Италии, в Римской провинции, есть деревня Артена. Убийств в ней происходит в шесть раз больше, чем в среднем по стране, а разбоев – в тридцать! Почему – никто понять не может. Просто вся деревня сплошь состоит из негодяев, и тянется это аж с четырнадцатого века.
(Продолжение следует.)
А взять Ливорно! Город как город, но главная итальянская клоака, и опять без видимых причин. Цивилизованная Франция ничуть не лучше: по границе Арденнского леса десятки деревень, в которых приезжего незнакомца зарежут средь бела дня, и никто не выдаст убийц полиции. Множество людей пропало там бесследно и пропадает до сих пор, и власти ничего не могут с этим поделать.
У нас злые люди, увы, представлены в том же изобилии. Если одна такая фамилия на деревне, то общество, как вы знаете, может от нее отказаться. Тогда их в Сибирь, на поселение, по приговору сельского схода. Но иногда такие люди объединяются, чаще всего – исторически – из-за характера их прежних помещиков. Это самое страшное…Представьте себе целое село, состоящее из такого сброда. Более ста дворов, почти семьсот человек населения, и из них половина такие, как Ярмонкины. Вторая половина, понятно, молчит. Попробуй, скажи им хоть слово поперек! И так с прошлого столетия.
Вершинино, действительно, особенное поселение. Начало всему, как я уже говорил, положили помещики. При Елизавете Петровне Вершининым владел отставной поручик Балкашин. До сих пор им в тех местах детей пугают…Выйдя в отставку, поручик собрал из своих крепостных целую банду числом более пятидесяти человек, вооружил их и вступил в настоящую войну со своими соседями. Вел себя при этом как средневековый барон: сжигал помещичьи усадьбы, угонял пленных и скот, уничтожал посевы, грабил и убивал проезжих. Одних дворян перебито было семнадцать человек, а крестьянские души никто и не считал. Длилось это почти десять лет, и для Балкашина совершенно безнаказанно. Петербург далеко, в губернии такие же кутайсовы, как наш, да и нравы были другие. И воспитал он таким образом целую плеяду душегубов… Наконец, в 1767 году, через Нижний проплывала Екатерина Великая, и ей пожаловались на этого выродка. Он как раз в этом году схватил, посадил на цепь и заморил голодом помещика Салтыкова, дальнего родственника первого фаворита Екатерины. Это была ошибка Балкашина: его схватили, посадили в острог, и он умер там под следствием. Ну и… дело спустили на тормозах, когда не стало главного злодея. Но душегубы-то его остались! Выросло целое поколение людей, которые не умели ни пахать, ни сеять, зато ловко орудовали кистенем.
Вершинино отошло в казну, но ненадолго; при Павле Первом его выкупили братья Быдреевы. Тоже лихие оказались ребята! Быстро столковались со старой балкашинской гвардией и начали разбойничать на дорогах. Помещиков соседских уже не жгли – время другое настало, но пограбили изрядно. Через соседний Лукояновский уезд проходил старый Сибирский тракт, так они на нем царили шесть лет. Кончилось тем, что против братьев выслали военный отряд; состоялся форменный бой, в котором Быдреевы были убиты. После чего выяснилось, что они успели за год до этого законным образом отпустить всех своих крепостных на волю…
И получилось то, что получилось. Ничейное село, в котором сложились целые династии профессиональных разбойников. Народ там действительно злой и до чужих денег жадный. Помещика нет, священника нет, станового пристава нет; полное бандитское самоуправление. Как говорится, дружно перековали лемех на свайку. Все решают сход и староста – и сами понимаете, как.
Расцвет душегубства пришелся в Вершинине на 1812 год. Тогда из Москвы на восток бежали толпы богатых людей; они везли с собой ценности и деньги. Нижний Новгород оказался переполнен беженцами и ранеными, и эвакуанты двинулись на Казань и Симбирск. Много их тогда пропало на тракте, а вершининские убийцы обогатились сказочно. Некоторые рода и по сей день живут теми запасами, отдавая деньги в рост скопцам в обеих столицах. Лет двадцать затем прошли тихо, а потом опять начали о них поговаривать, но вполголоса; прежних массовитых злодейств власть уже бы не потерпела. После 1862 года, когда выстроили железную дорогу Москва — Нижний, старый тракт потерял свое значение. Разбойничать стало труднее. На период ярмарки в губернию присылались — и присылаются, как вы знаете, и сейчас — казаки, на опасных местах устраивались заставы. И лиходелье у вершининцев стало как бы малозаметным, бытовым. Пропадают люди – ну и Бог с ними…
— Понятно. Думаю, пора это прекратить навсегда. Если я правильно понял вашу реплику, вы хотите подослать им Лыкова в качестве наживки?
— Да. Лыков — человек сильный, бывалый и решительный. И окажется там не с пустыми руками. Главное же, Алексей будет готов к нападению, а кто предупрежден, тот вооружен. Но все равно это опасно даже для него. Неподалеку мы, конечно, разместим полицейский отряд.
— Старик Смыслов прав – мало схватить одних только Ярмонкиных на месте преступления. Как вернуть в рамки закона целое сельское общество, которое развращалось сто лет?
— Ну, здесь все очень понятно. Нужны лишь настойчивость и последовательность властей.
— Это обещаю.
— Самое главное – перевести становую квартиру обратно в Вершинино и назначить на это опасное место подходящего человека.
— Таковой у вас имеется?
— Да. В Макарьевской части служит околоточным надзирателем Максим Палагута. Развитой, находчивый. Очень решительный! не хуже Лыкова. Два Георгия за турецкую войну. Палагута любит принимать решения самостоятельно и, главное, все доводит до конца. В городе ему скучно и тесно; в сельском же стане, где он хозяин, Максим развернется в достойную фигуру. Следует только назначить ему усиленный оклад приварочных денег. Согласитесь, служить в эдаком месте…
— Сделаем.
— Далее. Сельские стражники. Они должны быть родом из Вершинина. Не все же там убивцы и негодяи на семьсот человек! Есть и приличные, только им ходу не дают. Особое внимание следует обратить на недавно вышедших в запас солдат из гвардейских и хороших армейских полков. Ежели, например, человек честно отслужил в Нижегородском драгунском полку, его можно смело назначать в сельскую полицию. Имеющим боевой опыт отдавать предпочтение. И, наконец, самый кадр сельской стражи должен быть расширен относительно норматива.
— Сделаем.
— Вот и все. У Палагуты не забалуешь! Этот чертяка никого не боится; он им задаст жару. Перешлет в каторгу десяток самых отъявленных, остальным острастка. Старосту, конечно, заменить, кабак закрыть. Я бы и волостное управление туда перевел, но это уже, кажется, лишнее.
— Что ж, Павел Афанасьевич. Пришлите ко мне в понедельник Палагуту, я посмотрю на него. И жду вас не позже среды с Каргером и Лыковым для обсуждения плана операции. Кутайсова я беру на себя.
Операция, как и положено, началась с разведки. Титус и Лыков, загримированные армянами, проехали через Вершинино днем. Возница (городовой Ничепоруков) попросился в кабак; седоки дозволили и сами зашли из любопытства.
Большое помещение питейного дома было в этот час полупустым. Довольно чисто, но накурено. На стойке – деревянный бочонок с водкой, на нем висят на длинных ручках четыре ковшика с мерами1. Рядом бесплатная закуска: огурцы и черный хлеб. За спиной целовальника на полках запечатанные штофы с наливками и настойками. Тихо и покойно; только в углу у окна два мужика с красными лицами разогреваются стаканчиком, да у стойки вполголоса беседуют трое крепких молодцов.
«Армяне» сели у входа и спросили белого квасу-суровца и каленых яиц. Возница же прямо за стойкой вылил в себя четушку «вдовьей слезы» и заел галантиром2. Пока он это проделывал, парни поинтересовались:
-Кого везешь, дядя? Никак, бусурман?
-Не, то армянские люди; они тоже в Христа верят.
-Богатые?
-Да не шибко. С торга возвращаются. Так, мелкая сошка…
Лыков, с завитыми и перекрашенными волосами, с восточными усиками и осмугленной кожей, был не похож сам на себя. Он незаметно осматривался и молчал. Титус же громко нес тарабарщину на придуманном им языке, то и дело вплетая в нее русские матерные слова. Выпили квасу, и он крикнул:
-Вай, дарагой, ехат пора, да?
И они укатили. Проехали через все Вершинино, нашли дом Ярмонкиных (четвертый с краю по правой стороне), осмотрели на ходу подступы. Большой, с покоеобразной связью3, с высоким глухим забором, дом производил угрюмое впечатление. Далеко за ним, на задах, стоял ямный овин – туда и решили спрятать отряд. Собак у Евсея Егоровича, по словам Тайки, не водилось, и вообще на селе их почти не было.
Отмыв в управлении лицо и волосы, Лыков стал готовиться к рискованной командировке. Панцирь – подарок приятеля Буффало – решил не надевать. Вдруг в кабаке кто вздумает похлопать его по спине…По легенде, Алексей должен появиться в Вершинине под видом недалекого болтливого приказчика, доставляющего в Нижний крупную сумму хозяйских денег. Он пришел в костюмно-гримерное депо сыскного отделения и оделся соответственно. Пустил по жилетке толстую цепь из польского серебра, и приделал на нее недорогие часы. Обул сапоги бутылками, по моде. Кубовая рубаха и мешковатый сюртук скрывали атлетичную фигуру Лыкова и делали его на вид безобидным.
В левый карман штанов титулярный советник засунул «смит-вессон» с укороченным стволом (специальная модель для сыскных агентов), в правый – полицейский свисток. Взял в канцелярии под расписку полторы тысячи рублей крупными билетами. Сходил в Военный собор и поставил сам себе свечку за здравие. Все, можно ехать…
Приказчик появился в вершининском кабаке около семи вечера, и был уже сильно выпимши. Он ехал из Ардатова в Сергач со знакомыми гуртовщиками; по пути с ними повздорил, и те высадили его из тарантаса прямо посреди деревенской улицы. Очень обиженный, парень кинул вслед гуртовщикам камень, выругался и пошел в кружало4. Эту сцену наблюдал стоящий у входа худощавый субъект в сером армяке, с узким неприятным лицом. Выждав минуту, он сунулся следом. Приказчик, взъерошенный и сердитый, стукнул кулаком по стойке и приказал:
-Выпить! Немедля! Во-он туда. И закуски… самой наилучшей. Что есть из наилучшего, все неси. Запомни, хозяин – Алексей Лыков чем попало не закусывает! Мы привыкли к самому наилучшему. А они…Они просто сволочь, скажу я так. Сволочь. Одно слово: скотогоны, черная кость. Без них доберусь; тьфу на эту ракалью!
Сухощавый послушал, кивнул из-за спины гостя кабатчику – тот понимающе сощурился – и тронул горлопана за рукав.
-Вы правы; это было очень неуважительно.
-Пошел к черту!
-Такого, сразу видать, сурьезного человека, и ссадить. Рази с эдакими-то людьми неуважительно так поступают?
Приказчик вытаращил на сухощавого хмельные глаза:
-О! Слышу умные речи! И в вас сразу видать порядочного человека. Чего мы тогда стоим? Дозволяете вас угостить? Денег – как грязи…
И красноречиво похлопал себя по карману. При этих словах рыжий кудрявый мужик, игравший у окна с напарником в тавлею, оглянулся на хвастуна и неодобрительно покачал головой.
-За честь почту с вами выпить, — охотно отозвался прилипчивый субъект, и крикнул кабатчику:
-Мирон, оглох, что ли? Господин приказал: самого наилучшего.
Приказчик сделал капризное лицо:
-Мирон! Штоб тебя…Дежурный обед есть? «Депрэ» нумер сто тринадцать есть? Подавай скорее; видишь – мы пришли!
Подкатил прыщавый кабатчик, вытер грязной тряпкой грязный стол.
-Изволите ли знать, уважаемый господин, что дежурные обеды бывают только в городских трактирах, а здесь село. Портвейну у нас тоже нет-с; его в деревнях не пьют-с.
-Т-э-экс, — нахмурился гость. – Ну, и дыра… А что есть?
-Требуха с огурцами, каленые яйца и гороховый кисель. Особливо для вашей чести могу подать жареные мозги с черной кашей5, холодную осетрину и телячий галантир. Попить есть водка, и еще наливки: полыновка, померанцевая и кабацкий ром. Вам, как важному гостю, позвольте порекомендовать рябину на коньяке изготовления Шустова.
-Ша! Отменяю «депрэ» — неси рябиновую. И эти… как их? Мозги. Осетровые. Каши не надо.
Кабатчик удалился и очень скоро вернулся с водкой и закуской. Собутыльники выпили по первой и дружно, не сговариваясь, встали.
-Лыков Алексей Николаевич, приказчик купца Редозубова.
-Ярмонкин Анисим Сысоевич, здешний крестьянин. Коим ветром, Алексей Николаич?
-А вот! – Лыков вытащил из кармана сюртука толстый бумажник и громко шлепнул им об стол. – Полторы тыщи целковых! Хозяину выручку везу; продал его лес железной дороге. Таким вот доверием пользуюсь, да…А эти!
-Их Бог накажет, — примиряюще сказал Ярмонкин. – Привыкли со скотами дело иметь, да и сами оскотинились. Давайте лучше еще по полчижика выпьем.
-Достойная мысль! – выкрикнул гость, и пьяно рыгнул. – У вас, Анисим… э-э..
-Сысоевич.
-…Сысоич, я смотрю, очень правильный ход в мыслях имеется. Выпьем!
Опрокинули по второй, потом по третьей. Кудрявый мужик сдвинул шашки и смотрел на приказчика с нарастающим беспокойством. Тут как раз Анисим вышел на минуту по надобности на улицу, и Лыков остался один. Кудрявый быстро подбежал к нему и сказал в полголоса:
-Уходите отсюдова немедля, не то останетесь и без денег, и без жизни. Новый товарищ ваш – главный здесь разбойник. Бегите быстрее, до ближайшей деревни три версты, там люди порядочные, приютят, а здесь не надоть оставаться!
Тут с улицы вернулся Анисим, и не один. С ним вошел еще крестьянин: огромного роста и богатырского сложения, с маленькой головой и тяжелыми кулаками. Увидев, что рыжий о чем-то говорит с его «клиентом», Анисим заорал с порога:
-Сашка, зажмурь кадык! Черт черемной!6 За худые слова слетит и голова.
А гигант просто взял кудрявого за ворот и молча вышвырнул его за дверь, как котенка.
-Чего он тебе калякал? – налетел Анисим на Лыкова.
-Хрен поймешь; я не разобрал. Водки, верно, просил. Это кто с тобой? Здоровый дядя…
-Знакомься: мой братан Фома. А это Алексей Лыков, правая рука купца Редозубова.
-Да, — самодовольно подтвердил Алексей, — без меня они никуда. Никаких решениев не принимают, пока со мной не посоветуются. А уж как я скажу, так и делают. Вот, смотри!
И он снова вытащил бумажник и хлопнул им об стол.
-Полторы тыщи серсов. Ты, дядя, поди, и денег таких никогда в руках не держал, а Алексей Лыков кажний день мошной крутит. А часы какие, ты глянь! Семьдесят пять целковых отдал; серебро восемьдесят четвертой пробы. Эй, Мирон! Или он не Мирон? Водки!
Целовальник подскочил со штофом и квашеной капустой, но Анисим отослал его с закуской обратно, оставив только водку; еще и показал при этом незаметно кулак. Через два часа, когда совсем стемнело, Лыков был уже в стельку пьян. Он пытался петь «Среди долины ровныя», но не мог вспомнить слова. Затем порывался побороться с Фомой («я на Нижнем базаре первый борец!»). Нахамил соседней компании, но это сошло ему с рук: мужики с пониманием наблюдали, как братья Ярмонкины готовят дурака к потрошению.
Наконец, появился третий брат, Асаф, и увел всю компанию из кабака домой. Приказчик согласился переночевать у новых друзей. Он шел, окруженный тремя головорезами, как под конвоем, и редкие прохожие молча провожали его взглядами.
Пришли в большой пятистенник, где гостя приветливо встретил глава семейства. Сысой Егорович налил приказчику вонючей картофельной водки, презрительно именуемой в народе «брандахлыст»; шустрые снохи подали ботвиньи. Лыков выпил, деликатно рыгнул в кулак, и попросился спать. Его без уговоров положили на долгую лавку7и пожелали хороших снов; это прозвучало, как издевка.
Укладываясь, Алексей незаметно подмечал начавшиеся приготовления к убийству. Совершенно уже не опасаясь своей жертвы, Ярмонкины мало стеснялись в словах. Отсылая снох в бабий кут, старик прямо сказал им:
-Выходить, только коли позову. Негоже вам смотреть на это…
Обмануть опытного человека притворным сном невозможно. У спящего другое дыхание – редкое и ровное; подделать его обычно не удается. Другое дело – пьяный сон. Поэтому Алексей, как лег, сразу принялся храпеть, бормотать и ругаться. При этом он лежал на спине лицом к печке и не шевелился, как и положено выпившему. Анисим подошел и долго стоял над сыщиком, внимательно всматриваясь и вслушиваясь.
-Готов, — сказал он наконец. – Можно зачинать.
Сквозь полуприкрытые веки титулярный советник следил за убийцами. Те вели себя буднично, словно собирались пить чай, а не душить человека. Асаф завесил окна и прибавил огня в лампе. Евсей Егорович вышел на крыльцо, бросив через плечо:
-Кончите – позовете. И штоб тихо!
Три брата обступили лежащего Алексея, и он понял, что пора «просыпаться». Быстро вскочив, сыщик сунул правую руку в карман и спросил бодрым и трезвым голосом:
-Мужики, вы чего?
Асаф, средний из братьев, от неожиданности отскочил к порогу. Фома, напротив, сжал пудовые кулаки и, с тупым и зверским лицом, шагнул к Лыкову. Анисим стоял сбоку с увесистым латунным безменом для взвешивания шерсти – излюбленным оружием пьяных деревенских драк. Увидав взгляд гостя, он насторожился и остановил гиганта:
-А ну, братка, погодь. Чевой-то здесь не так.
-Анисим, — спросил его Лыков, — зачем тебе ночью безмен?
-Ты пошто вскочил? До ветру захотелось?
-Сон плохой привиделся. Будто вы меня убивать собрались.
-Значит, в руку сон-то. На кой ляд ты в кабаке мошной хвастался, дурья башка? Сидел бы молча, был бы живой. Купил лиха на свои деньги…Но, вижу, ты все время притворялся…Вынь-ка руку-то из кармана; чего ты там прячешь?
Лыков выхватил револьвер, но Анисим проворно и ловко ударил его с маху безменом по плечу. Рука сразу обвисла, как плеть, оружие вывалилось на пол.
-Та-та-та! – насмешливо сказал бандит. – И энтой хреновиной ты думал нас уделать? Как есть, дурак: гнилым носом, да кипарис нюхать…
-Можа, тятеньку позвать? – спросил Асаф. – Неправильно как-то все идет, не как всегда. Не ладно.
-Щас я сделаю ладно, — прорычал Фома и бросился на сыщика. Тот со всей силы врезал здоровой рукой. Получив крепкий удар, верзила отшатнулся и озадаченно потряс головой.
-Черт, да он дюжий!
-Это сыщик, — догадался вдруг Асаф. – Он по наши головы пришел! Я кликну тятю, а вы не зевайте.
-А хоть и сыщик, все одно дело надо до конца доводить, — рассудительно сказал Анисим. – Одну руку я ему уже перебил. Главное, напасть теперь скопом и повалить. Давайте: раз, два…
Тут Лыков, как всегда в таких случаях, вместо того, чтобы испугаться, разозлился. Сколько же людей эти стервецы здесь задушили, подумал он; пора их приструнить!
-…Три! – скомандовал Анисим, и бросился Алексею в ноги; одновременно Фома накинулся на сыщика с кулаками. Однако, вышло не по ихнему. Лыков перехватил Анисима за ворот, пригнул еще ниже и резко столкнул с братом. Тот замешкался на секунду, и Алексей двинул ему головой в челюсть, так мощно, что детина шлепнулся с грохотом на задницу. В ту же секунду Лыков прижал голову Анисима к лавке – тот пыхтел и безуспешно пытался вырваться – и обрушил сверху страшный удар здоровой левой рукой по темени. Словно забил гвоздь…Под кулаком хрустнуло, и бандит без звука прилег на край доски. Не останавливаясь, сыщик крутанулся на одном каблуке, а вторым с разворота заехал сидящему на полу с глупым выражением лица Фоме в переносицу. Тот всхлипнул и, как сидел, повалился на спину.
Асаф, словно завороженный, наблюдал от двери расправу непонятного гостя с братьями. Лыков перешагнул через огромную тушу Фомы, взял парня левой рукой за грудки и приподнял на пару вершков.
-Скажи-ка мне, щенок, где вы покойников скрываете.
-Дык, ведь, когда где, — пролепетал Асаф, болтаясь на воздухе. – За конюшней, быват, а быват, и в выгребе…
-Сколько их там?
-Примером ежели сказать, с десяток. Пустите меня, господин хороший; сам-от я никого не убивал!
Тут из сеней донесся голос Ярмонкина-старшего:
-Баял же я вам: штоб тихо; а вы? Экой грохот…Ничего не можно вам доверить!
И Сысой Егорович вошел в избу. Удивиться он не успел: Алексей больной правой рукой приставил его к стене, а левой, держа в ней Асафа, приложился со всей силы. Казалось, по горнице разлетелись искры…С криками отец и сын Ярмонкины повалились на пол. Тут сзади послышался шорох. Лыков, не оглядываясь, уперся ногой в стену и оттолкнулся. Влетел во что-то большое и мягкое – это оказался поднявшийся было Фома. Богатырь снова не устоял на ногах и повалился навзничь, увлекая за собой и сыщика. Алексей извернулся, оседлал бандита, сложил руки в замок и наотмашь ударил его в уже разбитую переносицу. Фома всхлипнул во второй раз, и застыл без движения. Лыков и сам чуть не потерял сознание от боли в ключице, но разлеживаться было некогда. Титулярный советник быстро поднялся, осмотрелся, но драться было уже не с кем. Четыре тела лежали по углам, не шевелясь, да за печкой выли вполголоса ярмонковские снохи.
Пошатываясь и осторожно ощупывая плечо, Алексей вышел из страшной избы-западни на улицу. Было темно и тихо, неподалеку сонно мычала корова, на небе ярко горели крупные сентябрьские звезды. Хорошо, подумал он; в городе таких нет. И что живой, тоже хорошо. Значит, не сегодня, не в этот раз…И полез за свистком.
Резкие визгливые трели вызвали переполох сразу в двух концах села. От кабака бросилось на звук до десятка мужиков, судя по крикам – крепко пьяных. Лыков запоздало вспомнил, что его револьвер остался в избе; драться же с этой ордой сил уже не было. Полицейский отряд ломился в темноте от овина по картофельным грядам и запаздывал. Бежать в дом? Вдруг на дороге появилась ладная, крепкая фигура Палагуты. Намного обогнав остальных, он встал перед вершининцами в спокойной и начальственной позе.
-Чего вылупились, мужики? Али давно полиции не видели?
-Ах, ты, фараон поганый! – заорал в ответ рослый детина с колом в руке. – Кто тя сюды звал? Порву!
И бросился на Палагуту. Лыков не успел даже испугаться за товарища. Тот взялся за рукоять сабли, в свете луны вспыхнула тусклая и короткая молния, и описала восьмерку. В-жик! В одну сторону полетел отрубленный конец дреколья, в другую – ухо. Детина бросил палку, схватился за то место, где это ухо только что было, и заорал дурным голосом. Мигом протрезвевшие вершининцы развернулись прочь, но были остановлены короткой репликой:
-Я что, кого-то отпускал?
Озадаченные мужики переминались с ноги на ногу, не зная, на что решиться. Голос полицейского, властный и жесткий, словно загипнотизировал их.
-Ша, звери! укротитель пришел. Я ваш новый становой пристав. Звать Максим Петрович Палагута. Человек я строгий, шуток не люблю, по два раза не повторяю. Быстро построились, и айда к старосте, для удостоверения ваших личностей. А ты, шибенник, подбери свое ухо и следуй возле меня; шесть лет каторги тебе уже причитаются.
Наконец, подоспели остальные полицейские. Подбежал и Благово. Увидев безжизненное лицо Лыкова, осторожно ощупал его, обнаружил сломанную или ушибленную ключицу.
-Это всё?
-Всё.
-Где они?
-Там.
Вошли в избу. Сысой Егорович сидел на корточках, безуспешно пытаясь встать. Снохи промывали ему голову. Старик что-то бормотал и размазывал по лицу кровавую юшку; вид у него был жалкий. Асаф, зажав череп руками, раскачивался из стороны в сторону и тихо скулил. Посреди горницы вытянулся во весь богатырский рост Фома, и вяло шевелил пальцами; заместо носа у него была кровавая вмятина. А в углу под иконами притулился на лавке Анисим. Он не стонал, не шевелился, и вообще не подавал признаков жизни.
-Вот его, — Лыков ткнул в Асафа, — следует допросить первым, и не в присутствии отца. Баб опять же отделить и до суда не позволять им общаться со свекором.
-Я все понял. Езжай, Алексей. Пусть Милотворский тебя осмотрит. Ты молодец! Свое дело сделал, остальное доверь нам.
Лыков не стал упираться, сел в коляску и покатил в Нижний. На душе у него застыло странное опустошение, какое и раньше случалось после тяжелого боя. Но ехать в ночи под крупными, как бутоны цветов, звездами домой, к матери и сестре, было приятно. Главное же: он знал, что в Вершинино больше не будут убивать прохожих. Благодаря ему, Лыкову. И это делало дорогу домой еще приятнее.
Между тем, в селе продолжалась полицейская операция. Асафа вывели на двор, и после недолгих препирательств он показал, где спрятаны тела задушенных и их вещи. Исправник со своими людьми сразу же приступили к раскопкам, а Благово пошел к старосте.
Его огромный шестистенок находился в середине порядка, напротив питейного дома. В окнах горел свет, у ворот стоял сельский стражник с саблей наголо. Павел Афанасьевич проследовал в горницу, где навстречу ему нехотя поднялся коренастый мужик лет сорока пяти, с отечным злым лицом. Несмотря на то, что в углу висела икона, хозяин был в шапке и снимать ее не собирался.
-Палагута! – скомандовал Благово.
Под потолком блеснула молния, и описала сразу две восьмерки. Шапка слетела с головы старосты и упала на пол, уже разрубленная пополам. Тот и ухом не повел.
-Ништо; новую купим. Знаем мы, кака собака набрехала.
-Палагута, нас спутали с институтками.
Еще блеснула молния, и староста, получив увесистый удар шашкой плашмя по затылку, со стоном упал на колени.
-Кланяться надо, когда разговариваешь с начальником сыскной полиции, — назидательно пояснил становой пристав. – Как звать?
-Кузьма Кузьмич Торчалов, — с достоинством ответил староста, поднимаясь с колен. – А за такие беззакония ответите перед судом. Меня сам предводитель дворянства знает!
-Сначала ты, пес, ответишь, а уж там будем поглядеть, — рассмеялся Палагута.
-Это за что же?
-А за бандитские свои проделки, — пояснил Благово. – Кончилась малина. Сейчас все село на уши поставим; что-нибудь, да и у тебя найдем.
-Вот сначала сыщите, тогда и стращайте.
-Ты, Кузьма, видать, так и не понял. В селе, где ты десять лет старостой, убивали все эти годы людей. Нам это надоело. Ярмонкины, кто из них живой остался, пойдут в пожизненную каторгу. Меру твоего участия будем выяснять, но лет восемь я тебе уже сейчас обещаю. Так что, сбирай вещи, пока мы ведем обыск.
-Знаем мы, знаем, кака собака набрехала, — опять повторил Торчалов с лютой злобой. – Задавим, как есть.
-Это ты из острога собираешься командовать?
-И там люди имеются; за деньги черта купишь.
Благово нахмурился. Он понимал, что угрозы старосты вполне осуществимы. Не посадит же коллежский советник в тюрьму все село! Торчалов передаст через подкупленного надзирателя приказ, и Тайку Смыслову со всем ее семейством в одну из ночей сожгут заживо…
-А что, пожары у вас тут часто случаются? – поинтересовался вдруг, не к месту, Павел Афанасьевич.
-Давно уж не было, — ответил староста, и насторожился. – А что у вас за интерес?
-Человек один сидит у меня в остроге. Ему бы, по совести, в душевной больнице место, а не в застенке…Больной он. Пироман. Есть такая болезнь – страсть к поджигательству. Вот Матюха, бедолага, ею страдает. Подпалит что – его в тюрьму. Отсидит, выйдет, опять палит и сызнова в тюрьму, и так всю жизнь. Выпустить его, что ли? Адресок подсказать…
-Какой такой адресок?
-Ну, известно, какой. Сергачского уезда Мигинской волости село Вершинино, шестистенок подле кабака. Дом наилучший во всем селе; не ошибется. Матюха у меня смышленый, понимает, что при его болезни с сыскной полицией лучше дружить. Сожжет тебя, и опять в острог; а я уж ему там условия получше сделаю, деньжат подброшу. Договоримся!
Торчалов застыл, как каменный, лицо его вмиг сделалось белее мела. Благово шагнул к нему, посмотрел в упор с холодным высокомерным презрением.
-Ты что, смерд? С кем шутить вздумал? Против ветра нужду справляешь. Я, начальник нижегородской сыскной полиции коллежский советник Павел Афанасьевич Благово, объявляю тебе приговор. Сейчас мы тут все разроем. Ежели не найдем трупы, станем искать краденые вещи. Ежели не найдем и вещей – я их тебе подброшу. Так что, каторги с последующим поселением в Сибири навечно тебе не миновать уже никак. И речь не об этом; тут вопрос решенный. Но если вдруг с некоторыми жителями Сосновки что-то случится – ты знаешь, о ком я говорю – то… ты до каторги не доедешь. Для этого есть достаточно способов. И хозяйство твое сгорит. И дети сядут в тюрьму – Палагута придумает, за что именно законопатить их подольше. И бабы их сядут. И братья твои, ежели имеются. И племянники, и дядья. Я вырву весь твой поганый род под корень. Вот, при свидетеле клянусь!
И Благово подошел к образу и перекрестился. Потом кликнул с улицы городового и приказал:
-Этого в наручниках в секретное отделение при управлении полиции, в одиночную камеру. Глаз не спускать; ни свиданий, ни передач. Здесь перерыть дом и двор на две сажени в глубину, искать трупы и краденное. Палагута подскажет, где искать, и что именно найти…Обо всем докладывать мне лично; я буду в кабаке пить чай. Да, кабак тоже потом закрыть.
Через четыре месяца состоялся суд. Ярмонкин-старший и его сын Фома получили пожизненную каторгу; Асафа приговорили к двенадцати годам. Анисима после медицинского освидетельствования от наказания освободили: отведав лыковского кулака, он сделался идиотом. Недоверчивый Благово поручил Палагуте вести за ним строгое и неотрывное наблюдение.
Повальный обыск в Вершинине продолжался почти неделю. В трех дворах было раскопано в общей сложности более двадцати неопознанных трупов, различной степени разложения. Во многих домах нашлись подозрительные вещи, часто со следами замытой крови, а также документы пропавших без вести людей. Выявилась страшная картина: несколько семейств много лет (если не десятилетий) занимались разбоями и убийствами, все село знало об этом, но молчало либо соучаствовало. Каждый пятый взрослый мужчина или сидел в тюрьме, или уже отбыл наказание, или был оставлен судом в сильном подозрении. Четверо беглых открыто проживали у себя дома и даже катались в волость, и никто их не тронул! Центральной фигурой в преступном селе оказался староста Кузьма Торчалов. Не убивая сам, он занимался скупкой краденого и продажей вещей и ценностей с погибших людей. Связи лихого старосты простирались до обеих столиц, а сыновья оказались состоящими в главных московских бандах: Анчутки Беспятого и Ивана Мячева. Под следствием очутилось более семидесяти вершининских крестьян, из которых полтора десятка, в том числе и бывший староста, пошли в Сибирь.
Палагута железной рукой навел в разбойничьем селе порядок. После осуждения в каторгу основных злодеев осталось еще много мелкой сошки. Эти люди пытались жить по старому, но им не дали такой возможности. В итоге те, кто не убежал, попали в арестный дом или на рудники. Вершинино медленно приучалось жить честным крестьянским трудом. Здоровые элементы нашлись и здесь, и, при поддержке властей, все в конце концов наладилось.
Семейство Смысловых вернулось в Сосновку и проживало там благополучно. В 1889 году, когда Благово уже не было в живых, а Лыков служил в Департаменте полиции, он получил от Палагуты письмо. Тот писал, что Анисим Ярмонкин покушался на жизнь Таисьи, к этому времени уже замужней женщины и матери троих детей. Осталось непонятным, симулировал ли убийца все эти годы сумасшествие, или излечился, но скрывал это, но, спустя почти десять лет, он попытался отомстить. По счастливой случайности, становой проезжал в этот момент по деревенской улице и увидел, как Анисим гонится за своей жертвой с ножом. Не долго думая, Палагута застрелил его на месте, закончив тем самым историю о злых людях из села Вершинино.
— А ВЗЯТЬ Ливорно! Город как город, но главная итальянская клоака, и опять без видимых причин. Цивилизованная Франция ничуть не лучше: по границе Арденнского леса десятки деревень, в которых приезжего незнакомца зарежут средь бела дня, и никто не выдаст убийц полиции. Множество людей пропало там бесследно и пропадает до сих пор, и власти ничего не могут с этим поделать.
У нас злые люди, увы, представлены в том же изобилии. Если одна такая фамилия на деревне, то общество, как вы знаете, может от нее отказаться. Тогда их в Сибирь, на поселение, по приговору сельского схода. Но иногда такие люди объединяются, чаще всего – исторически – из-за характера их прежних помещиков. Это самое страшное… Представьте себе целое село, состоящее из такого сброда. Более ста дворов, почти семьсот человек населения, и из них половина такие, как Ярмонкины. Вторая половина, понятно, молчит. Попробуй, скажи им хоть слово поперек! И так с прошлого столетия.
Вершинино, действительно, особенное поселение. Начало всему, как я уже говорил, положили помещики. При Елизавете Петровне Вершининым владел отставной поручик Балкашин. До сих пор им в тех местах детей пугают…
Выйдя в отставку, поручик собрал из своих крепостных целую банду числом более пятидесяти человек, вооружил их и вступил в настоящую войну со своими соседями. Вел себя при этом как средневековый барон: сжигал помещичьи усадьбы, угонял пленных и скот, уничтожал посевы, грабил и убивал проезжих. Одних дворян перебито было семнадцать человек, а крестьянские души никто и не считал.
Длилось это почти десять лет, и для Балкашина совершенно безнаказанно. Петербург далеко, в губернии такие же кутайсовы, как наш, да и нравы были другие. И воспитал он таким образом целую плеяду душегубов…
Наконец, в 1767 году через Нижний проплывала Екатерина Великая, и ей пожаловались на этого выродка. Он как раз в этом году схватил, посадил на цепь и заморил голодом помещика Салтыкова, дальнего родственника первого фаворита Екатерины. Это была ошибка Балкашина: его схватили, посадили в острог, и он умер там под следствием.
Ну и… дело спустили на тормозах, когда не стало главного злодея. Но душегубы-то его остались! Выросло целое поколение людей, которые не умели ни пахать, ни сеять, зато ловко орудовали кистенем.
Вершинино отошло в казну, но ненадолго; при Павле Первом его выкупили братья Быдреевы. Тоже лихие оказались ребята! Быстро столковались со старой балкашинской гвардией и начали разбойничать на дорогах. Помещиков соседских уже не жгли – время другое настало, но пограбили изрядно. Через соседний Лукояновский уезд проходил старый Сибирский тракт, так они на нем царили шесть лет. Кончилось тем, что против братьев выслали военный отряд; состоялся форменный бой, в котором Быдреевы были убиты. После чего выяснилось, что они успели за год до этого законным образом отпустить всех своих крепостных на волю.
И получилось то, что получилось. Ничейное село, в котором сложились целые династии профессиональных разбойников. Народ там действительно злой и до чужих денег жадный. Помещика нет, священника нет, станового пристава нет; полное бандитское самоуправление. Как говорится, дружно перековали лемех на свайку. Всё решают сход и староста – и сами понимаете, как.
Расцвет душегубства пришелся в Вершинине на 1812 год. Тогда из Москвы на восток бежали толпы богатых людей; они везли с собой ценности и деньги. Нижний Новгород оказался переполнен беженцами и ранеными, и эвакуанты двинулись на Казань и Симбирск. Много их тогда пропало на тракте, а вершининские убийцы обогатились сказочно. Некоторые рода и по сей день живут теми запасами, отдавая деньги в рост скопцам в обеих столицах. Лет двадцать затем прошли тихо, а потом опять начали о них поговаривать, но вполголоса; прежних массовитых злодейств власть уже бы не потерпела.
После 1862 года, когда выстроили железную дорогу Москва – Нижний, старый тракт потерял свое значение. Разбойничать стало труднее. На период ярмарки в губернию присылались – и присылаются, как вы знаете, и сейчас – казаки, на опасных местах устраивались заставы. И лиходелье у вершининцев стало как бы малозаметным, бытовым. Пропадают люди – ну и Бог с ними…
– Думаю, пора это прекратить навсегда. Если я правильно понял вашу реплику, вы хотите подослать им Лыкова в качестве наживки?
– Да. Лыков – человек сильный, бывалый и решительный. И окажется там не с пустыми руками. Главное же, Алексей будет готов к нападению, а кто предупрежден, тот вооружен. Но все равно это опасно даже для него. Неподалеку мы, конечно, разместим полицейский отряд.
– Старик Смыслов прав – мало схватить одних только Ярмонкиных на месте преступления. Как вернуть в рамки закона целое сельское общество, которое развращалось сто лет?
– Ну, здесь все очень понятно. Нужны лишь настойчивость и последовательность властей.
– Это обещаю.
– Самое главное – перевести становую квартиру обратно в Вершинино и назначить на это опасное место подходящего человека.
– Таковой у вас имеется?
– Да. В Макарьевской части служит околоточным надзирателем Максим Палагута. Развитой, находчивый. Очень решительный! Не хуже Лыкова. Два Георгия за турецкую войну. Палагута любит принимать решения самостоятельно и, главное, все доводит до конца. В городе ему скучно и тесно; в сельском же стане, где он хозяин, Максим развернется в достойную фигуру. Следует только назначить ему усиленный оклад приварочных денег. Согласитесь, служить в эдаком месте…
– Сделаем.
– Далее. Сельские стражники. Они должны быть родом из Вершинина. Не все же там убивцы и негодяи на семьсот человек! Есть и приличные, только им ходу не дают. Особое внимание следует обратить на недавно вышедших в запас солдат из гвардейских и хороших армейских полков. Ежели, например, человек честно отслужил в Нижегородском драгунском полку, его можно смело назначать в сельскую полицию. Имеющим боевой опыт отдавать предпочтение. И, наконец, самый кадр сельской стражи должен быть расширен относительно норматива.
– Сделаем.
– Вот и все. У Палагуты не забалуешь! Этот чертяка никого не боится; он им задаст жару. Перешлет в каторгу десяток самых отъявленных, остальным острастка. Старосту, конечно, заменить, кабак закрыть. Я бы и волостное управление туда перевел, но это уже, кажется, лишнее.
– Что ж, Павел Афанасьевич. Пришлите ко мне в понедельник Палагуту, я посмотрю на него. И жду вас не позже среды с Каргером и Лыковым для обсуждения плана операции. Кутайсова я беру на себя.
Операция, как и положено, началась с разведки. Титус и Лыков, загримированные армянами, проехали через Вершинино днем. Возница (городовой Ничепоруков) попросился в кабак, седоки дозволили и сами зашли из любопытства.
Большое помещение питейного дома было в этот час полупустым. Довольно чисто, но накурено. На стойке – деревянный бочонок с водкой, на нем висят на длинных ручках четыре ковшика с мерами1. Рядом бесплатная закуска: огурцы и черный хлеб. За спиной целовальника на полках запечатанные штофы с наливками и настойками. Тихо и покойно, только в углу у окна два мужика с красными лицами разогреваются стаканчиком, да у стойки вполголоса беседуют трое крепких молодцов.
«Армяне» сели у входа и спросили белого квасу-суровца и каленых яиц. Возница же прямо за стойкой вылил в себя четушку «вдовьей слезы» и заел галантиром2. Пока он это проделывал, парни поинтересовались:
– Кого везешь, дядя? Никак, бусурман?
– Не, то армянские люди, они тоже в Христа верят.
– Богатые?
– Да не шибко. С торга возвращаются. Так, мелкая сошка…
Лыков, с завитыми и перекрашенными волосами, с восточными усиками и осмугленной кожей, был не похож сам на себя. Он незаметно осматривался и молчал. Титус же громко нес тарабарщину на придуманном им языке, то и дело вплетая в нее русские матерные слова. Выпили квасу, и он крикнул:
– Вай, дарагой, ехат пора, да?
И они укатили. Проехали через все Вершинино, нашли дом Ярмонкиных (четвертый с краю по правой стороне), осмотрели на ходу подступы. Большой, с покоеобразной связью3, с высоким глухим забором, дом производил угрюмое впечатление. Далеко за ним, на задах, стоял ямный овин – туда и решили спрятать отряд. Собак у Евсея Егоровича, по словам Тайки, не водилось, и вообще на селе их почти не было.
Отмыв в управлении лицо и волосы, Лыков стал готовиться к рискованной командировке. Панцирь – подарок приятеля Буффало – решил не надевать. Вдруг в кабаке кто вздумает похлопать его по спине…
По легенде, Алексей должен появиться в Вершинине под видом недалекого болтливого приказчика, доставляющего в Нижний крупную сумму хозяйских денег. Он пришел в костюмно-гримерное депо сыскного отделения и оделся соответственно. Пустил по жилетке толстую цепь из польского серебра и приделал на нее недорогие часы. Обул сапоги бутылками, по моде. Кубовая рубаха и мешковатый сюртук скрывали атлетичную фигуру Лыкова и делали его на вид безобидным.
В левый карман штанов титулярный советник засунул «смит-вессон» с укороченным стволом (специальная модель для сыскных агентов), в правый – полицейский свисток. Взял в канцелярии под расписку полторы тысячи рублей крупными билетами. Сходил в Военный собор и поставил сам себе свечку за здравие. Все, можно ехать…
Приказчик появился в вершининском кабаке около семи вечера и был уже сильно выпимши. Он ехал из Ардатова в Сергач со знакомыми гуртовщиками; по пути с ними повздорил, и те высадили его из тарантаса прямо посреди деревенской улицы. Очень обиженный, парень кинул вслед гуртовщикам камень, выругался и пошел в кружало4. Эту сцену наблюдал стоящий у входа худощавый субъект в сером армяке, с узким неприятным лицом. Выждав минуту, он сунулся следом. Приказчик, взъерошенный и сердитый, стукнул кулаком по стойке и приказал:
– Выпить! Немедля! Во-он туда. И закуски… самой наилучшей. Что есть из наилучшего, все неси. Запомни, хозяин: Алексей Лыков чем попало не закусывает! Мы привыкли к самому наилучшему. А они… Они просто сволочь, скажу я так. Сволочь. Одно слово: скотогоны, черная кость. Без них доберусь; тьфу на эту ракалью!
Резкие визгливые трели вызвали переполох сразу в двух концах села. От кабака бросилось на звук до десятка мужиков, судя по крикам – крепко пьяных. Лыков запоздало вспомнил, что его револьвер остался в избе; драться же с этой ордой сил уже не было. Полицейский отряд ломился в темноте от овина по картофельным грядам и запаздывал. Бежать в дом? Вдруг на дороге появилась ладная, крепкая фигура Палагуты. Намного обогнав остальных, он встал перед вершининцами в спокойной и начальственной позе.
– Чего вылупились, мужики? Али давно полиции не видели?
– Ах ты, фараон поганый! – заорал в ответ рослый детина с колом в руке. – Кто тя сюды звал? Порву!
И бросился на Палагуту. Лыков не успел даже испугаться за товарища. Тот взялся за рукоять сабли, в свете луны вспыхнула тусклая и короткая молния, и описала восьмерку. В-жик! В одну сторону полетел отрубленный конец дреколья, в другую – ухо. Детина бросил палку, схватился за то место, где это ухо только что было, и заорал дурным голосом. Мигом протрезвевшие вершининцы развернулись прочь, но были остановлены короткой репликой:
– Я что, кого-то отпускал?
Озадаченные мужики переминались с ноги на ногу, не зная, на что решиться. Голос полицейского, властный и жесткий, словно загипнотизировал их.
– Ша, звери! Укротитель пришел. Я ваш новый становой пристав. Звать Максим Петрович Палагута. Человек я строгий, шуток не люблю, по два раза не повторяю. Быстро построились и айда к старосте, для удостоверения ваших личностей. А ты, шибенник, подбери свое ухо и следуй возле меня; шесть лет каторги тебе уже причитаются.
Наконец подоспели остальные полицейские. Подбежал и Благово. Увидев безжизненное лицо Лыкова, осторожно ощупал его, обнаружил сломанную или ушибленную ключицу.
– Это всё?
– Всё.
– Где они?
– Там.
Вошли в избу. Сысой Егорович сидел на корточках, безуспешно пытаясь встать. Снохи промывали ему голову. Старик что-то бормотал и размазывал по лицу кровавую юшку, вид у него был жалкий. Асаф, зажав череп руками, раскачивался из стороны в сторону и тихо скулил. Посреди горницы вытянулся во весь богатырский рост Фома и вяло шевелил пальцами; заместо носа у него была кровавая вмятина. А в углу под иконами притулился на лавке Анисим. Он не стонал, не шевелился и вообще не подавал признаков жизни.
– Вот его, – Лыков ткнул в Асафа, – следует допросить первым, и не в присутствии отца. Баб опять же отделить и до суда не позволять им общаться со свекором.
– Я все понял. Езжай, Алексей. Пусть Милотворский тебя осмотрит. Ты молодец! Свое дело сделал, остальное доверь нам.
Лыков не стал упираться, сел в коляску и покатил в Нижний. На душе у него застыло странное опустошение, какое и раньше случалось после тяжелого боя. Но ехать в ночи под крупными, как бутоны цветов, звездами домой, к матери и сестре, было приятно. Главное же, он знал, что в Вершинине больше не будут убивать прохожих. Благодаря ему, Лыкову. И это делало дорогу домой еще приятнее.
Между тем в селе продолжалась полицейская операция. Асафа вывели на двор, и после недолгих препирательств он показал, где спрятаны тела задушенных и их вещи. Исправник со своими людьми сразу же приступили к раскопкам, а Благово пошел к старосте.
Его огромный шестистенок находился в середине порядка, напротив питейного дома. В окнах горел свет, у ворот стоял сельский стражник с саблей наголо. Павел Афанасьевич проследовал в горницу, где навстречу ему нехотя поднялся коренастый мужик лет сорока пяти, с отечным злым лицом. Несмотря на то, что в углу висела икона, хозяин был в шапке и снимать ее не собирался.
– Палагута! – скомандовал Благово.
Под потолком блеснула молния и описала сразу две восьмерки. Шапка слетела с головы старосты и упала на пол, уже разрубленная пополам. Тот и ухом не повел.
– Ништо, новую купим. Знаем мы, кака собака набрехала.
– Палагута, нас спутали с институтками.
Еще блеснула молния, и староста, получив увесистый удар шашкой плашмя по затылку, со стоном упал на колени.
– Кланяться надо, когда разговариваешь с начальником сыскной полиции, – назидательно пояснил становой пристав. – Как звать?
– Кузьма Кузьмич Торчалов, – с достоинством ответил староста, поднимаясь с колен. – А за такие беззакония ответите перед судом. Меня сам предводитель дворянства знает!
– Сначала ты, пес, ответишь, а уж там будем поглядеть, – рассмеялся Палагута.
– Это за что же?
– А за бандитские свои проделки, – пояснил Благово. – Кончилась малина. Сейчас все село на уши поставим. Что-нибудь да и у тебя найдем.
– Вот сначала сыщите, тогда и стращайте.
– Ты, Кузьма, видать, так и не понял. В селе, где ты десять лет старостой, убивали все эти годы людей. Нам это надоело. Ярмонкины, кто из них живой остался, пойдут в пожизненную каторгу. Меру твоего участия будем выяснять, но лет восемь я тебе уже сейчас обещаю. Так что сбирай вещи, пока мы ведем обыск.
– Знаем мы, знаем, кака собака набрехала, – опять повторил Торчалов с лютой злобой. – Задавим, как есть.
– Это ты из острога собираешься командовать?
– И там люди имеются, за деньги черта купишь.
Благово нахмурился. Он понимал, что угрозы старосты вполне осуществимы. Не посадит же коллежский советник в тюрьму все село! Торчалов передаст через подкупленного надзирателя приказ, и Тайку Смыслову со всем ее семейством в одну из ночей сожгут заживо…
– А что, пожары у вас тут часто случаются? – поинтересовался вдруг не к месту Павел Афанасьевич.
– Давно уж не было, – ответил староста и насторожился. – А что у вас за интерес?
– Человек один сидит у меня в остроге. Ему бы, по совести, в душевной больнице место, а не в застенке… Больной он. Пироман. Есть такая болезнь – страсть к поджигательству. Вот Матюха, бедолага, ею страдает. Подпалит что – его в тюрьму. Отсидит, выйдет, опять палит – и сызнова в тюрьму, и так всю жизнь. Выпустить его, что ли? Адресок подсказать…
– Какой такой адресок?
– Ну известно, какой. Сергачского уезда Мигинской волости село Вершинино, шестистенок подле кабака. Дом наилучший во всем селе, не ошибется. Матюха у меня смышленый, понимает, что при его болезни с сыскной полицией лучше дружить. Сожжет тебя – и опять в острог, а я уж ему там условия получше сделаю, деньжат подброшу. Договоримся!
Торчалов застыл как каменный, лицо его вмиг сделалось белее мела. Благово шагнул к нему, посмотрел в упор с холодным высокомерным презрением.
-Ты что, смерд? С кем шутить вздумал? Против ветра нужду справляешь. Я, начальник нижегородской сыскной полиции, коллежский советник Павел Афанасьевич Благово, объявляю тебе приговор. Сейчас мы тут все разроем. Ежели не найдем трупы, станем искать краденые вещи. Ежели не найдем и вещей – я их тебе подброшу. Так что каторги с последующим поселением в Сибири навечно тебе не миновать уже никак. И речь не об этом, тут вопрос решенный. Но если вдруг с некоторыми жителями Сосновки что-то случится – ты знаешь, о ком я говорю, – то… ты до каторги не доедешь. Для этого есть достаточно способов. И хозяйство твое сгорит. И дети сядут в тюрьму – Палагута придумает, за что именно законопатить их подольше. И бабы их сядут. И братья твои, ежели имеются. И племянники, и дядья. Я вырву весь твой поганый род под корень. Вот, при свидетеле клянусь!
И Благово подошел к образу и перекрестился. Потом кликнул с улицы городового и приказал:
– Этого в наручниках в секретное отделение при управлении полиции, в одиночную камеру. Глаз не спускать, ни свиданий, ни передач. Здесь перерыть дом и двор на две сажени в глубину, искать трупы и краденое. Палагута подскажет, где искать и что именно найти…Обо всем докладывать мне лично, я буду в кабаке пить чай. Да, кабак тоже потом закрыть.
Через четыре месяца состоялся суд. Ярмонкин-старший и его сын Фома получили пожизненную каторгу; Асафа приговорили к двенадцати годам. Анисима после медицинского освидетельствования от наказания освободили: отведав лыковского кулака, он сделался идиотом. Недоверчивый Благово поручил Палагуте вести за ним строгое и неотрывное наблюдение.
Повальный обыск в Вершинине продолжался почти неделю. В трех дворах было раскопано в общей сложности более двадцати неопознанных трупов различной степени разложения. Во многих домах нашлись подозрительные вещи, часто со следами замытой крови, а также документы пропавших без вести людей.
Выявилась страшная картина: несколько семейств много лет (если не десятилетий) занимались разбоями и убийствами, все село знало об этом, но молчало либо соучаствовало. Каждый пятый взрослый мужчина или сидел в тюрьме, или уже отбыл наказание, или был оставлен судом в сильном подозрении. Четверо беглых открыто проживали у себя дома и даже катались в волость, и никто их не тронул! Центральной фигурой в преступном селе оказался староста Кузьма Торчалов. Не убивая сам, он занимался скупкой краденого и продажей вещей и ценностей с погибших людей. Связи лихого старосты простирались до обеих столиц, а сыновья оказались состоящими в главных московских бандах: Анчутки Беспятого и Ивана Мячева. Под следствием очутилось более семидесяти вершининских крестьян, из которых полтора десятка, в том числе и бывший староста, пошли в Сибирь.
Палагута железной рукой навел в разбойничьем селе порядок. После осуждения в каторгу основных злодеев осталось еще много мелкой сошки. Эти люди пытались жить по-старому, но им не дали такой возможности. В итоге те, кто не убежал, попали в арестный дом или на рудники. Вершинино медленно приучалось жить честным крестьянским трудом. Здоровые элементы нашлись и здесь, и при поддержке властей все в конце концов наладилось.
Семейство Смысловых вернулось в Сосновку и проживало там благополучно. В 1889 году, когда Благово уже не было в живых, а Лыков служил в департаменте полиции, он получил от Палагуты письмо. Тот писал, что Анисим Ярмонкин покушался на жизнь Таисьи, к этому времени уже замужней женщины и матери троих детей. Осталось непонятным, симулировал ли убийца все эти годы сумасшествие или излечился, но скрывал это, но спустя почти десять лет он попытался отомстить. По счастливой случайности, становой проезжал в этот момент по деревенской улице и увидел, как Анисим гонится за своей жертвой с ножом. Недолго думая, Палагута застрелил его на месте, закончив тем самым историю о злых людях из села Вершинина.
Рисунок
Елены КОНСТАНТИНОВОЙ.
